«В наше время в прозе побеждает артист»

Дина Рубина представила в российских столицах семейную сагу «Русская канарейка» — ветвистую историю двух «потомков» одной певчей птички: парижско-израильского одессита и гражданки мира родом из Алма-Аты. С писательницей встретился обозреватель «Известий».
— Ваши книги уже много лет привлекают читателей, издаваясь и переиздаваясь тиражами свыше 100 тыс. экземпляров. Вы сами никогда не пробовали анализировать — почему?
— Писатель — последний человек, который может ответить на этот вопрос. Точно так же, как привлекательная женщина никогда не сможет объяснить, что именно привлекает в ней мужчин. Она может говорить только о каком-то особом «аромате». А я могу говорить только об интонации. Чем ярче личностное начало в тексте, чем яснее в нем авторская его интонация (как у Довлатова, например), тем призывнее тот неуловимый аромат, обаяние прозы для читателя — в котором читатель, возможно, даже не отдает себе отчет.
Ну, а писатель — его уже заботят другие проблемы, профессиональные: например, как выстроить каркас сюжета, чтобы его «силовое притяжение» держало внимание от начала до конца. В том, что касается обаяния авторской интонации, тут дело решает некоторая доля артистизма. В наше нетерпеливое время в прозе побеждает артист — тот, кто способен владеть «залом», вести его, принять на себя внимание и держать его, как певец держит ноту, — столько, сколько дыхания хватит. То есть до известной степени в интонации автора должна звучать дудка крысолова.
— Но при всей важности интонации «Русская канарейка» — большое трехчастное повествование с хитроумно выстроенными сюжетными линиями. Судьбы героев вдруг резко меняются в силу удивительных совпадений и неожиданных происшествий. Вы фаталист?
— Давайте не будем делать вид, что литература — это жизнь. Литература — это, безусловно, сконструированный мир. И от «конструкторского» мастерства писателя зависит, поверит ли ему читатель. Так, чтобы даже профессионал в той или иной области (скажем, физик-атомщик) поверил в какой-нибудь выдуманный ход, например, в аллергию на канареечный корм у людей, соприкасающихся с плутонием.
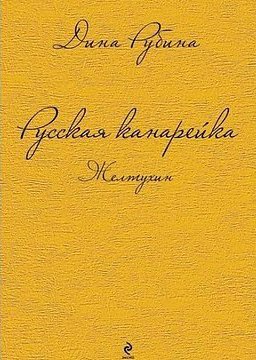 Это мое право как писателя — скручивать сюжет самым немыслимым образом; если читатель пошел за мной, если он добрался до конца огромного романа — значит, я победила. А что касается фатализма… Плох тот художник, который не верит в судьбу, в неожиданность, в яркий сюжетный ход. Он остановится на уровне жизнеподобия — но не добьется того вздоха, того полета в стратосферу, которое и выводит произведение в разряд искусства.
Это мое право как писателя — скручивать сюжет самым немыслимым образом; если читатель пошел за мной, если он добрался до конца огромного романа — значит, я победила. А что касается фатализма… Плох тот художник, который не верит в судьбу, в неожиданность, в яркий сюжетный ход. Он остановится на уровне жизнеподобия — но не добьется того вздоха, того полета в стратосферу, которое и выводит произведение в разряд искусства.
Я повторяю: невозможен знак равенства между жизнью и искусством. Но я и в жизни фаталист! Не было ни одной книги, по поводу которой мне не был бы дан знак — стоит продолжать над ней работу или нет. И этот роман — не исключение. Как только я придумала этот сюжетный ход: у человека, полностью погруженного в звуки птичьего пения, у канаровода, рождается глухая дочь, — я в тот же день получила письмо от глухой женщины. Почему? Что за странное совпадение?
— Но главный герой романа — все-таки не глухая девушка-фотограф Айя, а Леон Этингер, персонаж еще более экзотический: бритый наголо контратенор, парижская звезда барочной оперы и при этом сотрудник израильской контрразведки, обученный убить человека голыми руками. У него есть какой-то реальный прототип?
— Ну... этак процентов восемьдесят мужского населения страны. Я, конечно, сильно утрирую, но достаточно посмотреть на взвод наших израильских резервистов, серьезных мужиков — программистов, хирургов, экономистов, учителей и адвокатов (как мой зять, например), которые раз в году или чаще отбывают свое солдатское «призвание» или «наказание». Что уж говорить про мальчиков, которые проходили службу в спецподразделениях, а их у нас достаточно.
Такая страна, такая реальность — мужчина должен научиться сражаться. Там, где я живу, защищать свою страну — это нормально и обыденно. Их, конечно, учат многому. Так что судьба моего героя — вполне типична: служба в спецчастях, затем работа «сопровождающего полеты» в авиакомпании «Эль Аль», а потом, если человек успешен — а мой герой успешен, иначе о нем было бы неинтересно писать, — его примечают и стараются привлечь для работы в секретную службу и т.д.
Ну, представьте: взвод «ребят» (которым может быть уже за 40), которые в 18 лет вместе глотали пыль в пустыне, а потом каждый год встречаются на сборах, но по мере хода жизни кем-то становятся. Один заводит фалафельную, другой становится банковским служащим, третий создает несколько программистских стартапов и к сорока годам он миллионер, что не освобождает его от резервистской службы. Только у нас может быть, чтобы резервист притащил на свою базу великолепную барную стойку — потому что вообще-то он владелец нескольких ресторанов. Я понимаю, российскому читателю в это трудно поверить, но это так. Такова «домашняя» реальность этой страны.
— Напрашивается деликатный вопрос: вы — живущий в Израиле русский писатель или пишущий по-русски израильский писатель?
— Знаете, раньше такие вопросы приводили меня в оторопь: я задумывалась, начинала что-то объяснять, сама с собой разбираться. Сейчас уже не задумываюсь. Я частное лицо, зовут меня так-то и так-то, живу там-то и там-то, пишу на русском языке, потому что это единственный язык, на котором могу думать, воображать, видеть сны и вообще жить полной жизнью. А не писать я не могу, это такой невроз, если хотите.
Жить могла бы, думаю, где угодно, но по судьбе, конечно, очень привязана к Израилю, к Иерусалиму, — тут живут мои дети, а они уже израильтяне. Все эти обозначения — «русский писатель», «израильский писатель» — ровным счетом ничего не значат. Первым «русскоязычным писателем» был И.А. Бунин — в его паспорте в графе гражданство стояло «без гражданства».
Набоков, даже когда писал по-английски, всё равно психологически, психофизически оставался русским писателем. Возьмите его рассказ «Озеро, облако, башня». Там нет ни одной русской реалии, но градус этого переживания, градус неуловимой тоски, что сквозит в каждой его фразе, — это всё от русской литературы.
— Сохранился ли в наши дни же резкий водораздел между «здесьиздатом» и «тамиздатом», как во времена Набокова, или благодаря свободе перемещений и чудесам коммуникации он полностью исчез?
— Сохранился судьбинный водораздел. Потому что место проживания безусловно накладывает отпечаток на твое восприятие мира. Человек, который живет в крошечной стране, иначе относится к миру, чем тот, кто проживает в пространстве гигантской державы. Я живу в маленьком городке в 17 км от Иерусалима. Это как раз «мой любимый размер», как говорил ослик Иа. И когда приезжаю в Москву, она уже кажется мне огромной, неохватной, утомительной и страшной. Хотя я жила здесь много лет.
— А имеет ли смысл противопоставление «женская проза», к которой вас порой относят, и «мужская проза»?
— Я не пишу для женщин. Я вообще не пишу «ни для кого» конкретно. Пишу, потому что это моя профессия. Когда у меня проходят встречи с читателями — а это бывает в двух-, трехтысячных залах — на них собираются не только женщины. И письма — мне приходит много писем — я получаю не только от женщин. Так что разделение читателей по половому признаку — это смешно и глупо. Иначе давайте поговорим, для кого писали Ахматова, Цветаева…
— Это поэты!
— Разве не было мужчин-поэтов, которые писали про маргаритки? И для какой аудитории писали Надсон или Северянин? Для меня в искусстве прозы существует только мастеровое качество. Грубо говоря: или ты умеешь сколачивать эти табуретки, или грош тебе цена. Вот и всё. Правильнее уточнить: так уж складывается в последние десятилетия, что основными «потребителями искусства» — не только литературы, но и музыки, и живописи, и театра — являются почему-то женщины.
Посмотрите в театральный зал, приглядитесь к публике на любом вернисаже. Процентов на 60, даже на 70, это женщины. О причинах этого могут рассуждать психологи и социологи, но как бы там ни было, женщины сегодня в мире более восприимчивы к «продуктам искусства». Увы. Такова реальность. А уж в России это реальность в квадрате.



