Бабушка блогера между счастьем и горем
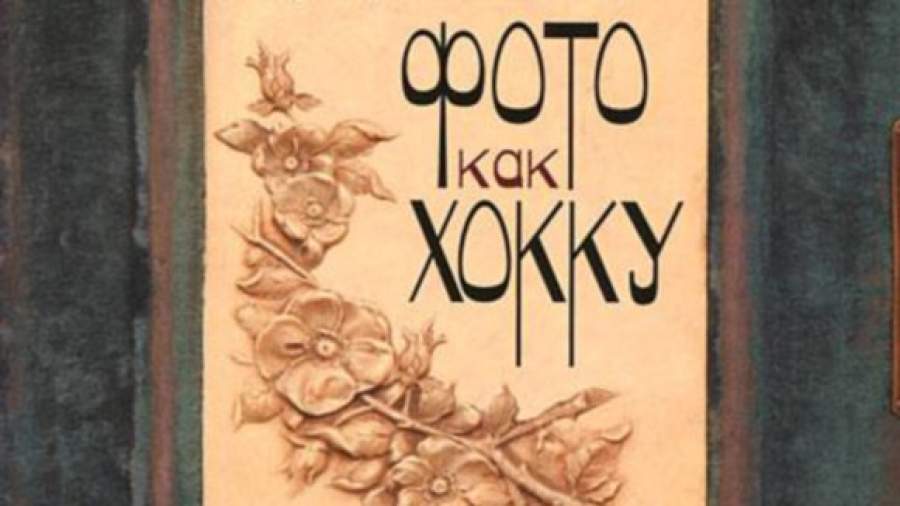
На переплете книги «Фото как хокку» крупным шрифтом прописано имя Бориса Акунина. В интернет-магазинах Акунин и вовсе обозначен как автор. Но на самом деле его перу здесь принадлежат только четыре страницы предисловия. Хотя сам писатель уже давно ведет в своей библиографии счет «проектам», именно нынешняя затея может определяться этим понятием без отрицательного оттенка.
Обычно у Акунина присуждение роману звания «проекта» знаменовало ожидание коммерческого успеха и окончательный переход в разряд беллетристики. Так, например, было с «Квестом» и циклом «Смерть на брудершафт». С каждым из этих «проектов» автор от чего-то отказывался: сначала — от самодостаточности художественного текста, не требующего поддержки в виде компьютерной игры, затем — от стилистических «излишеств», якобы мешающих читателю сразу считывать из книги «картинки», прокручивать в голове «фильмы».
Следующим ходом стал растиражированный сразу несколькими сайтами блог писателя. Под девизом «Добро пропадает» он делится с читателями своими черновиками, находками, историческими свидетельствами, которые не поместились в основные тексты. Именно из этого понимания рачительности неожиданно вырос новый проект.
Сам автор считает, что у него даже вспомогательные материалы могут оказаться ценными. А вот своих читателей попросил прислать отнюдь не наброски, а самое дорогое и в то же время в текучке жизни забываемое — фотографии родителей, бабушек и дедушек. Плюс разъяснительные семейные истории.
Аннотация, объясняющая как лучше ориентироваться в этом проекте, немного пугала: «Сначала внимательно смотрите на фотографии и пытайтесь угадать, кем был этот человек и как сложилась эта жизнь». Казалось, создатель Фандорина просто запустит все эти фотоистории — с их «лицами, каких сейчас не делают», горделивыми осанками, старомодными прическами и круглыми очочками — в «мясорубку» своих детективов. Но писатель на этот раз пришел не с редакторскими ножницами — с миром.
Присланные тексты изданы как есть — с самоповторами, разговорными словечками, разве что без «смайликов». Каждая история сопровождается тремя или пятью фотографиями героя. Японист Акунин сравнил фотоколлажи с двумя поэтическими формами — трехстишием и пятистишием, хокку и танка: «Между ними умещается целая жизнь, счастье и горе, приобретения и утраты, открытия и разочарования».
Горя и утрат в присланных историях, как водится, больше. Возможные финалы «они жили счастливо и умерли в один день» чаще оказываются перечеркнуты жестокой действительностью. «Беда пришла и в этот дом», «жили трудно, средств к существованию не было» — всё это рефрены сборника.
Если свершения — то трудовые, и чаще интеллигентские: самые достойные восхищения герои — врачи, учителя, инженеры, многодетные матери. А так называемый народный взгляд на мир с сочувствием сформулировала одна из побывавших в эвакуации бабушек: «На Урале были особенно антисоветские настроения: «А нам все равно кака власть, лишь бы было сладко да бело», то есть были белый хлеб и сахар».
Конечно, не все мемуаристы-блогеры владеют искусством превращения обычных воспоминаний в художественный текст. Таковых даже меньшинство, но тут чаще сами истории говорят за себя. Конкретные указания, как «каждые десять минут давать температурящему ребенку чайную ложку воды» или почему не «жаловаться на грязную посуду» (эта максима встречается даже в двух историях) — вся эта «бабушкина» мудрость и готовность помочь, конечно, заслуживают не только манерного цветаевского «юная бабушка, кто целовал ваши надменные губы».
Беллетристика, самым ярким представителем которой и является Б. Акунин, продемонстрировала в этом проекте весь спектр своих возможностей: из самых личных, семейных, теплых историй вынимается сердцевина, которую можно растиражировать и продать, и в то же время этот «циничный» акт служит благому делу, препятствует торжеству равнодушного «понятия не имею, кто это», полному забвению, которое, на самом деле, гораздо опаснее, чем нехитрый рассказ «без прикрас».



