Снежный ангел встретил космонавта Комарова
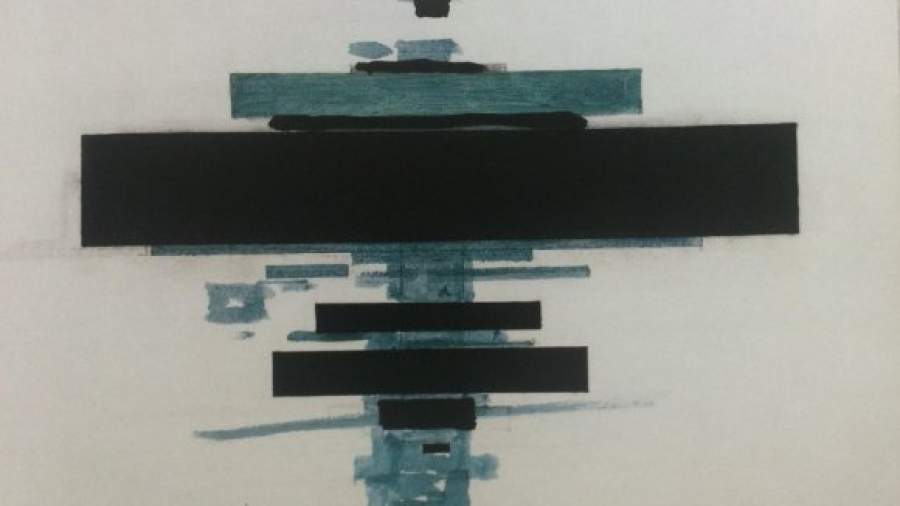
Когда говорят, что художники «первого авангарда» опередили свое время, обычно имеют в виду эстетические особенности их произведений. Но можно это утверждение понимать и так, что они прокладывали дорогу будущим достижениям технического прогресса. Разумеется, не с помощью изобретений и выводимых формул (хотя встречались среди адептов «нового искусства» любители поблуждать в дебрях науки — правда, на дилетантском уровне), а посредством целенаправленных фантазий. Первые послереволюционные годы были наполнены необычайным художественным энтузиазмом. Казалось, вместе с падением «буржуйского строя» пошатнулись и законы природы. Во всяком случае, сторонники и последователи Казимира Малевича больше не рассматривали ньютонову механику в качестве ограничителя творческой свободы.
Такого рода «полеты» и подразумевает заглавие выставки: умозрительный, но страстный выход за пределы гравитации, а заодно и привычных представлений об изобразительной культуре. Вопреки распространенному мнению, работы супрематистов не были совсем уж «абстракциями», то есть за отступлением от жизнеподобных форм стояла идея сотворения «иной реальности». Поскольку признаков ее наступления наблюдалось пока не очень много, следовало заняться ее проектированием. Этому посвящены многочисленные планы «городов будущего», построения архитектонов и вычисления «супрематических элементов в пейзаже».
Сегодняшнего зрителя не должен смущать черновой, эскизный характер ряда листов Малевича, Суетина, Чашника, Рождественского, Хидекеля. Тут лишь приблизительные контуры того мира, который предстояло построить «победившему пролетариату». Супрематисты и другие художники «левых взглядов» верили, что до масштабных, детализированных проектов рукой подать, надо лишь задать правильные векторы. Но вскоре выяснилось, что власть не только не разделяет энтузиазма насчет переосмысления и переустройства Вселенной, а еще и рассматривает подобные устремления как подозрительные и даже враждебные. Авангард стал андеграундом: утопическим разработкам пришлось предаваться тайно. Кстати, некоторые из учеников Малевича (упомянем хотя бы Владимира Стерлигова) продолжали свои изобразительные эксперименты вплоть до наступления «оттепели».
Собственные воззрения на «полеты во сне и наяву» имели также и ученики Михаила Матюшина — автора музыки к знаменитой футуристической опере «Победа над Солнцем», основателя теории «расширенного видения». Участники петроградско-ленинградского общества «Зорвед» к учению Малевича относились настороженно, исповедовали иные художественные принципы, но тоже были космистами. Один из «зорведов» — художник Борис Эндер писал в дневнике: «Надо отвыкнуть от того, что Земля есть большой глобус. Надо наполнить геометрическую цельность. Земля примерилась к миру звездному с помощью геометрии человека. Теперь она развернет свое затаенное магнитное напряжение».
Пафосом подобного свойства концепция выставки, впрочем, не ограничивается. Хотя авангардные опусы из частных коллекций занимают наибольшую часть пространства галереи, остается все же место для «послесловия». Пожалуй, именно в такой роли выступают работы Франциско Инфанте 1960–1970-х годов и графический альбом Ильи Кабакова «Полетевший Комаров». Другое поколение по-иному взирало на космические амбиции предшественников, но не было совсем уж обделено романтизмом. И даже относительно недавний видеоперформанс Леонида Тишкова «Снежный ангел» нельзя воспринимать как пародию на идею полета. Да, ангел в телогрейке с обвисшими крыльями за спиной вынужден брести по сугробам вместо того, чтобы воспарить в небеса. Но почему-то верится, что полет состоится — пусть даже после финальных титров.



