Сергей Скрипка: «Мы работаем без репетиций»
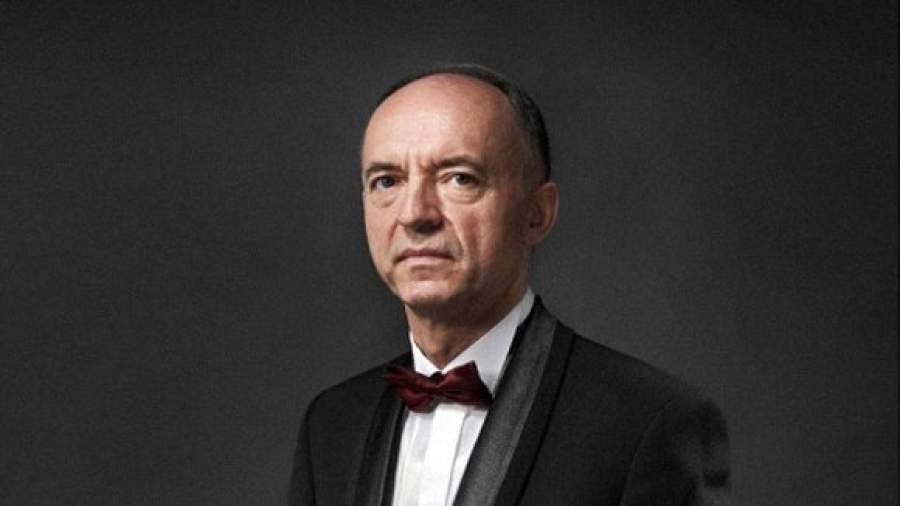
3
октября Государственный оркестр кинематографии и его постоянный лидер Сергей
Скрипка отмечают двойной юбилей большим гала в Зале имени Чайковского.
65-летний дирижер рассказал о своем 90-летнем коллективе корреспонденту «Известий».
— Насколько я понимаю, возраст Оркестра кинематографии установили вы лично?
— Никто пока не проводил
серьезных исследований на эту тему, но мне удалось выяснить, что в 1944 году, в
разгар войны в Москве прошел концерт к 20-летию Оркестра кинематографии. Это
надежное свидетельство.
— Как оркестр появился на свет?
— Сначала это были музыканты
из разных коллективов, собиравшиеся, чтобы сопровождать сеансы в кинотеатре
«Арс» на Тверской. А спустя 14 лет оркестр стал самостоятельным и получил государственный статус.
— Еще через 40 лет туда пришли вы.
— Я работал в нем еще будучи
аспирантом консерватории. Причем система оплаты дирижерского труда была
устроена так противоречиво, что я получал втрое больше своего профессора. Дело
в том, что все штатные дирижеры сидели на лимите: каждый мог записать не больше
80 минут в месяц. Ставка у всех была разная: у дирижеров попроще — 7,5 рубля
за минуту, а у худрука Эмина Хачатуряна — 15 рублей. Пока я не был в штате, мог
записывать сколько угодно музыки без ограничений. А вот когда меня приняли,
стал получать копейки — моя ставка составляла 4,5 рубля. Но тогда хотя бы была
работа.
— А когда ее не стало? В 1990-е?
— В начале 1990-х, наоборот,
был страшный бум. Стали создаваться всяческие кооперативы, невероятное
количество шальных денег гуляло, столько дурных фильмов наснимали! Названия
кинокартин были такие, что в газете не напечатаешь. Ни одна до наших дней не
дожила, все кануло в Лету. Но работы у нас было очень много. А потом
— резкий спад.
— Когда же?
— Примерно в 1993 году. Мы
очутились на мели. Оркестр тогда не был государственным — принадлежал «Мосфильму». Денег нам не давали вообще, мы считались коммерческой организацией.
А зарабатывать было негде. Потом мне удалось договориться, чтобы Госкино снова
взяло нас в государственное лоно.
— А сейчас кому вы подчинены?
— Когда закрыли Госкино, нас
перевели в Министерство культуры. Начались еще более интересные времена. Никто
не знал, для чего мы предназначены: концертов даем мало, что это за оркестр?
Долго мы пытались объяснить, что записи на кинопленку — это и есть наши
концерты.
— Какую часть доходов вашего коллектива обеспечивает государство?
— Государство дает зарплату,
плюс с прошлого года мы получаем грант, правда, очень маленький — самый
маленький среди московских оркестров. То, что мы зарабатываем на съемках,
прибавляем к зарплате.
— А процент от сборов в прокате вы получаете?
— Нет, ни копейки. Все, что
касается смежных прав, в нашей стране никак не функционирует.
— Усовершенствование синтезаторов, наверное, тоже лишает вас хлеба?
— Сначала синтезаторы использовались как отдельный красочный тембр в составе оркестра. Потом они стали нас вытеснять: там ведь есть жалкое подобие струнных, духовых. Но пока ни один синтезатор не в состоянии полноценно заменить струнную группу оркестра.
— Какой процент фильмов сейчас
выпускается с привлечением симфонического оркестра?
— Бóльшая часть нынешней продукции — это телесериалы, а там все поставлено на поток, ни о каких оркестрах не может быть и речи. Есть редчайшие исключения, подтверждающие правило, — «Жизнь и судьба», «Ликвидация». Вот сейчас выйдет многосерийный вариант «Солнечного удара» Михалкова.
— Никита Сергеевич присутствует на записи, вмешивается в
работу оркестра?
— Он всегда сотрудничает с
Эдуардом Артемьевым, который профессионален настолько, что в его музыке ничего
и никогда менять не надо. Надо только уложить ее в картину. В этом процессе —
слияния музыки с экраном — и заключено самое интересное. Здесь понимающий
режиссер может очень помочь, корректируя характер исполнения. Вообще, режиссер
— это тот, кто понимает, чего хочет. Когда Михалков слышит музыку,
положенную на определенную сцену, ему важно, насколько мягко сыграла флейта,
с какой вибрацией.
— Он пользуется музыкальными терминами?
— Нет, конечно. Он пользуется
терминами эмоциональными и режиссерскими, а Артемьев пытается перевести их на
музыкальный язык. Но я уже понимаю и того, и другого с полуслова.
— Обычный дирижер симфонического
оркестра выбирает ту музыку, которую хочет. А вам заказали запись саундтрека —
и даже если принесут совершенно бездарную партитуру, вы должны ее сыграть.
— Времена сейчас такие — не
хлопнешь дверью, ведь надо зарабатывать деньги. Да, иногда приходится наступать
на горло собственной песне. Порой оказывается, что композитор — друг
режиссера, они выпивали на кухне, композитор режиссеру наиграл что-то на
гитаре, потом отдали это аранжировщику, а нам приходится исполнять. Ну что
поделать, ничего в этом ужасного нет.
— Правда ли, что ваш оркестр
записывает музыку без репетиций?
— Да, мы берем партии,
исправляем неправильные ноты, подгоняем к экрану и сразу записываем. Конечно,
бывают исключения: когда Артемьев написал к «Щелкунчику» Андрея Кончаловского
музыку фантастической сложности, мы ее предварительно разучивали.
— Какие фильмы с музыкой в вашем
исполнении выйдут в ближайшее время?
— 8 октября будет премьера
«Уикенда» Станислава Говорухина с музыкой Артема Васильева, а 9 октября
— «Солнечный удар». Дальше пока нет никакой ясности. Зачастую мы пишем
фильм под одним названием, а выходит он под другим, и отследить судьбу каждой
картины непросто. Вот у говорухинского фильма столько было названий! И лично
мне «Уикенд» не кажется самым удачным.
— Вас наверняка достали этим вопросом,
но все-таки: ваша фамилия — это не псевдоним?
— Фамилия у меня настоящая,
украинская. На Украине такие фамилии давали не просто так:
очевидно, предки мои были музыкантами. Я из крестьян, поэтому родословной своей
на много поколений в глубину не знаю. Но знаю, что в хуторе на отшибе, где жил
мой род, было 10–15 домов, и там все поголовно носили фамилию Скрипка.



